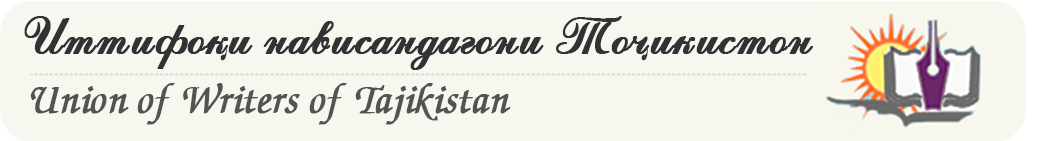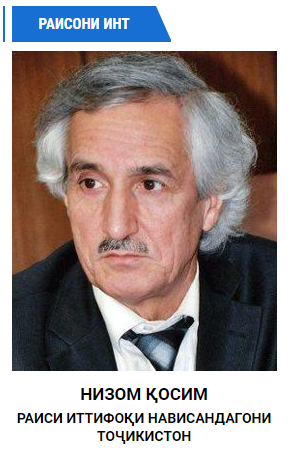Анвар Олим
Анвар Олим (Ориёнмехр, 1956 г. рожд.), прозаик, автор нескольких сборников рассказов и повестей. Отдельные произведения переведены на русский язык и напечатаны в журнале «Памир». Перевел на таджикский язык произведения литовского писателя Скрайсиса «Волшебная лампа», русского писателя В. Гринкова «Слеза палача» и Ч. Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря».
ПОД ПОКРОВОМ ВЗГЛЯДОВ
С тех пор, как вспыхнул огонь ненависти, вражды и мести, люди стали ненасытны кровью друг друга, а зависть и злоба достигли высочайшего предела. Народы, гордящиеся своими научными достижениями и разгадкой тайн вселенной, зверски убивают единокровных. Стихийные бедствия: беспрерывные дожди, селевые потоки, бури и землетрясения, пожары и знойные ветра стали частыми явлениями. Удивительный контраст: культура и наука сегодня на подъеме, культурное просвещение людей неизмеримо, но почему так низко пали человеческая мораль и общее приличие?…
Мужчина безжалостно забивал мне голову рассказами о страданиях, боли и пытках семи слоев ада. Извинившись, я встал, чтобы уйти. Сердце забеспокоилось, я был не в силах высвободиться от воздействия его слов. Сунув мне в руку свои записи, мужчина захотел, чтобы я их непременно прочитал.
Эти несколько страниц записей были кусками сердца, осколками кровавой жизни, криками и протестами, переполненными смертью, ломтями израненного тела – его ранами…
- 03. 1987. КАБУЛ. АНОРИЁСИН
Сегодня, в первый день месяца фарвардин, по афганскому календарю месяца хамал,[1] я покинул Кабул. В нескольких метрах от окон моего дома распустилось дерево абрикоса. Шестью месяцами ранее, когда я приезжал сюда, видел, что на дворе растет абрикос, но с наступлением весны, увидев, что дерево зацвело, я был крайне удивлен. Ведь абрикосы, поглощенные цветками — чудо весенней природы моей деревни. Что тут делает одинокое дерево? Неужели оно, близкое и родное моему сердцу, пришло с Родины в этот несчастный, полный огня и дыма край? Я выбрался из плена глухих городских переулков.
Мои руки и ноги дрожали, чувствовал, будто в голову вместо мозга положили кусок холодного льда, и теперь из-за него по всему телу ползет дрожь. Вынужденно закрывал глаза, но они… Оплакивающие, стонущие глаза…
До сегодняшнего дня не знал и даже не догадывался, что за пару минут до смерти человеческие глаза становятся такими прекрасными. «Простите меня, простите…!». Нет, увы, я не могу выговорить и этих простых слов, будто пытаюсь обмануть себя, будто хочу показать себя в лучшем свете. Я был целиком пленен глазами, которые смотрели вне этого мира…
***
Когда полковник, доктор медицинских наук, главный хирург больницы Георгий Савич Чепчерук и несколько медсестер перенесли его с хирургического стола в одну из палат отделения реанимации, на мгновение поднялись крики и вопли родственников раненого, а затем наступила ужасающая тишина. Тишина подобная мертвому и холодному телу солдата. Смертельная тишина? Тишина безмолвия? Или тишина в тишине? Не знаю, но эта тишь была как печальный вопрос в глазах раненого – что это? – оставить след, однако…нет, не то, она подобна сильному страху ребенка, внезапно потерявшего мать, глядящего по сторонам и ничего не понимающего, не знающего, куда вдруг мать пропала и где ее теперь искать. Не знаю, возможно, эта тишина не продлилась более чем несколько секунд, но от напряжения нервов хотелось безудержно кричать.
«Господи, что это за состояние? Что я вижу? Разве это человек…?
На кровати под воздействием наркоза растянулся молодой парень (Господи, что я говорю?! Разве он растянулся?), обе его руки выше локтя и обе ноги выше колена были отрублены. На кровать будто положили четырехугольную коробку, одетую в сорочку, а сверху положили круглый мяч с глазами, носом и ушами, который мучительно и хрипло дышал. Не знаю, что я сделал и что сказал, но тревожный и упрекающий шепот Георгия Савича привели меня в чувство. Я словно едва выбрался из сырой и узкой ямы.
– Что случилось? Быстро возьмите себя в руки. Нет, выйдите на улицу…
Не помню, как, проходя между ранеными в коридоре, я оказался у него в кабинете.
До сегодняшнего дня – ни в жизни, ни в книгах, ни даже в страшных зарубежных фильмах ужасов я не видел человека в подобном виде. Нет, в моем сердце не было места состраданию, оно превратилось в комок высохшей глины. Никого не хотелось видеть, даже собственное отражение. Все, что меня окружало: дверь, столы и стулья, листы бумаги, шкаф с лекарствами, календарь, повешенный на стену, карта мира, зеркало, вешалка — всё действовало мне на нервы.
Достав из шкафа графин с алкулом,[2] я наполовину наполнил стакан и выпил залпом. Однако ни капли не подействовало, будто выпил стакан воды. В этот миг открылась дверь, и вошел Георгий Савич. Он удивленно взглянул в шкаф.
— Куда делся спирт? – посмотрел он на меня. Вместо ответа я налил из графина в стакан примерно шестьдесят-семьдесят грамм и протянул ему. Он тоже выпил одним духом, а затем, кашляя, спросил:
– Что на вас там нашло? Вы начали бредить.
– Я не знаю, почему бредил, Георгий Савич. Не помню.
– Да, – задумался он. – Вы ведь не медик.
– Теперь я увидел, как война и медицина меняют тело человека.
– Я, брат, военный хирург, прооперировал множество солдат, но впервые в своей практике провел подобного рода операцию. Не было выбора. В противном случае был бы установлен диагноз: смерть.
– А какой у него сейчас диагноз? В чьих руках его жизнь? Тьфу, черт возьми. Какие руки…
– Хватит пустословить. Ты переводчик, медико-военный переводчик, брат. И должен проработать в этой суматохе еще полгода, – Георгий Савич вдруг перешел на «ты». – Терпение, брат, терпение – налив из графина еще несколько глотков спирта и задумчиво держа в руке стакан, промолвил: – Привыкнет. Природа захочет, Бог найдет выход. Постепенно его желания будут соответствовать возможностям. А дальше его воля… захочет, будет жить, не захочет…
– Георгий Савич, он ведь и повеситься не сможет…
– В исламе самоубийство – величайший грех. Почему высказываешься против своей религии?
– Не знаю, Георгий Савич, не знаю…. Если бы я мог…, если бы это было в моих силах, дал бы ему средство…лекарство, черт побери, короче говоря, снадобье, чтобы он тихо, без боли и страданий, заснул сладким сном и никогда больше не проснулся. И, поверьте, я гордо принял бы за это наказание перед Всевышним.
Георгий Савич посмотрел мне в глаза.
– Знаешь, в начале века на международном консилиуме известные и авторитетные врачи предложили то, о чем ты сейчас сказал. То есть, освобождение больного от жуткой боли, от которой он, так или иначе, умрет. Однако представители мировых религий выступили категорически против этой инициативы. Сказали, Бог дарит жизнь, он ее и забирает! Поэтому, хорошо, брат, что Бог лишил тебя этого права. В противном случае, ты обратишь в прах весь опыт и все усилия, цель которых в действительности – улучшение будущего человечества.
– Георгий Савич, почему же подопытными всегда выступают бедные люди?
– Почему всегда люди? Сначала свиньи, обезьяны, крысы… Бог знает еще какие животные и птицы подвергались опытам, – на миг, умолкнув, сделал свой вывод: – Знаешь, брат, – сказал он, – сейчас земля кажется мне не круглой, а четырехугольной, и, куда бы ты ни шел, натыкаешься лбом на заостренные углы, – затем печально махнул рукой и поднес стакан к губам.
***
На следующий день, когда солнце жаждало заката, а окна кабинета зажглись в кроваво-алый цвет, Георгий Савич, подняв голову, спросил:
– В реанимацию не сходишь?
– Смелости не хватает. А что?
– Тот солдат, которому мы вчера отрезали руки и ноги, пришел в себя, однако нисколько не удивился. Может, не понял… только на пару секунд, изумленно оглянулся, будто ища свои руки и ноги, затем что-то тихо пробурчал и вновь погрузился в бесчувствие. Что это? Воля?
– Вера, Георгий Савич, – глубокая вера.
– Вера во что?
– В Божью волю.
– Да, – облокотившись на стол, задумался он, – приверженность — великая сила. Иногда сильнее медицины…. Кстати, у него есть родители? Не знаешь?
– Нет, не в курсе.
– Черт возьми, даже не знаю, что сказать. Если да, то им будет сложно, особенно матери… Да что значит сложно? Да у них душа просто разорвется на части… Горе свалит их с ног. Сходишь к нему?
– Хорошо, Георгий Савич.
– Иди, брат, иди.
Когда я вошел, его глаза были устремлены на входную дверь. Он словно ждал кого-то.
– Привет, друг. Как себя чувствуешь? – приблизившись, спросил я. — Хорошо? – но смотрел только в глаза, так как не было смелости взглянуть на тело.
– Ты переводчик из Шурави?[3]
– Да.
– Понял. Хочешь поговорить.
– Как тебя зовут, брат?
– Салим.
– Салимджон…- я не знал, что говорить дальше, поэтому, по привычке, сказал то, что обычно говорят не особо тяжелым больным: – Не беспокойся, Салимджон. Бог даст, выздоровеешь.
– Ты принес мне анориёсин?[4] – спросил он. Я удивился, не понимая, что значит граната Ёсина.
– Прошу прощения, Салимджон, какая граната?
– Если целомудренный старец, который за всю жизнь ни разу не сошел с праведного пути, в день Навруза сорок раз прочитает над гранатой суру Ёсин, она станет «гранатой Ёсина» и вылечит все недуги.
– Эх, Салимджон, где мы найдем такого старца? – и я сразу прикусил губу, ибо этим вопросом сам не ведая, намекнул, что его недуг неизлечим.
– В раю, – ответил он и, отвернув голову, измученно закрыл глаза.
– Переводчик себ![5] – из угла палаты вдруг донесся возглас другого раненого. – Можешь ко мне подойти? Прошу.
Это был солдат по имени Фирдавс, которого месяц назад в окопе города Газни, что в ста километрах от Кабула, ранили в правую ногу. И теперь нога была ампутирована чуть ниже колена. Подойдя к кровати, я склонился над ним. Он дрожал, как листья ивы.
– Да, Фирдавсджон, что хотел? Ты в порядке?
– Переводчик, себ, – он взволнованно сжал мою руку в своей ладони, и по моему телу пробежала легкая дрожь. Его руки были ледяными, – переводчик себ, – бесчувственно повторил он, – я боюсь, боюсь самого себя.
– Почему, почему, Фирдавсджон? Позвать доктора?
– Не надо, переводчик себ. Я хочу исчезнуть и не видеть его.
– Успокойся, Фирдавсджон. Ты солдат, солдат-герой…
– Нет…не хочу быть героем. Боже, разве это героизм? Вот героизм, посмотри, — он указал на безрукого и безногого Салима, — он настоящий герой. А я не хочу быть героем, — он закрыл лицо ладонями и горько заплакал. – Боже, я не хочу быть героем… Хочу, чтобы меня оставили в покое, оставили одного и не требовали героизма. Не хочу, не хочу… — рыдал Фирдавс, и тут послышался хриплый голос Салима:
– Переводчик, себ…
Я поспешил к нему.
– Да Салимджон, что такое? – радостно спросил я, ведь мне от всей души хотелось выполнить хоть малейшую просьбу этого несчастного юноши, чтобы на его высохших, потресканных, синих губах хотя бы замелькала улыбка.
– Тот солдат беспокоиться о моем состоянии?
– Да, Салимджон.
– Зря. Нужно воспринимать реальность. Величие реальности в том, что в ней нет ни капли сомнений и колебаний. Мое состояние – это реальность, значит, нет нужды в слезах и жалости.
– Ты точно философ, Салимджон. Удивительные слова говоришь.
– Я учитель. Преподавал историю в школе моего села – его голос задрожал.
– Салимджон, хочешь, я попрошу нарс,[6] чтобы поменяла тебе сорочку? – сменил я тему разговора.
– Не нужно. Спасибо. Я хочу привыкнуть к своему телу, хочу быть единственным, кто смирился и идет дальше, но сейчас меня беспокоит не боль, а зуд.
– Зуд?
– Да, мои руки и ноги чешутся.
– Но ведь…– я хотел сказать, что у него нет рук и ног, как они могут чесаться, но вовремя взял себя в руки. – Пройдет, Салимджон, пройдет – потрясенно выговорил я и зашагал в рабочий кабинет.
Георгий Савич стоял у окна и задумчиво разглядывал площадку и фонари больницы. Услышав, как отворилась дверь, он взглянул на меня.
– А, вернулся? Ну и как?
– Я удивлен, Георгий Савич.
– Чему удивлен?
– Он говорит, что у него чешутся руки и ноги. Какие руки? Какие ноги? Какой зуд?
– Правильно, зуд… В медицине это называют состоянием фантома, подобно миражу: ты видишь или чувствуешь то, чего на самом деле не существует. То есть, его мозг еще не привык к тому, что конечностей нет.
– И как долго это состояние продлится?
– У всех по-разному. Больше зависит от воли самого больного, однако меня беспокоит другое. Почему он не стонет от боли? Ведь я знаю, прекрасно знаю, какие боли терзают его тело. Боли, от которых теряют сознание, а он молчит… В любом случае передай медсестре мое поручение, пусть каждый день утром и вечером колит ему морфий[7] – и Георгий Савич, опустив голову, сжал ее в ладонях.
– Две дозы морфия в день? Не многовато, Георгий Савич? Наркоманом не станет?
– Да что ж это такое? Ты врачом стал? Не волнуйся, не станет наркоманом. Это временно, пока не заживут раны…. Да, кстати, хорошая новость, – сказал он, взглянув на меня красными от бессонницы глазами. – Через две недели в Кабул со своей группой приезжает Иосиф Кобзон. Выступит и в нашей больнице. Из посольства позвонили и сообщили. Поэтому готовься. Дел будет много. Приедет заместитель посла, и, по плану Министерства здравоохранения, подарит безногим солдатам протезы. Черт возьми… — Георгий Савич вновь сжал голову и жалобно выговорил: – Завтра из окопов привезут еще одну большую группу раненых… Ох, как я устал. Вот уже три года режу, отрубаю, режу, отрубаю… Устал, очень устал.
Я ощутил, что этот человек сильной воли, который каждый день часами стоя оперирует по четыре-пять растерзанных солдат и будто не знает усталости, сейчас отчаян.
– Георгий Савич, то, что вы каждый день делаете…. Эх, о — о… – я не знал, что еще сказать в его утешение.
– Дело не в этом, брат, – сказал он и потянулся за графином. Опередив его, я налил в стакан немного спирта. – Вот уже три-четыре месяца я жалею о выбранной профессии. – Георгий Савич неохотно выпил содержание стакана. – Жаль нацию, жаль. Ведь перед тем как приехать, я изучил историю этой страны, также историю вашего народа и жаль, что мы, европейцы, под ложным лозунгом гуманизма, уничтожили эту, когда-то цивилизованную, нацию. Жаль, ох, как жаль…
Взяв в руки графин, он снова налил алкул.
– Знаете, Георгий Савич, с тех пор, как я приехал в Афганистан, присутствую почти на всех ваших операциях, одновременно занимаясь переводом, слежу за ходом ваших действий, – и, шутя, добавил, чтобы поднять ему настроение, – поэтому мне иногда кажется, что, если привезут менее тяжелого раненого, я смогу самостоятельно его прооперировать. Как вам такое предложение? Может попробовать? Разрешите?
– Молодец, – тоже шутливо ответил он. – Тогда, напиши на Родине, своим друзьям, что, если вдруг у них геморрой, пускай подождут. Когда вернешься, сам прооперируешь.
* * *
Прошло две недели.
– Салимджон, завтра на площадке больницы пройдет большой концерт певцов и танцоров Шурави.
– Знаю, переводчик себ. Медсёстры сказали, приедет Юсуф Кобзон. Ты его знаешь?
– Да, Салимджон, знаю – я рассмеялся тому, что он назвал его Юсуфом.
– Почему смеешься? – спросил он.
– Ты сказал Юсуф. Мы в Шурави зовем его Иосиф. Хотя, ты прав, персидский синоним Иосифа – Юсуф.
– Он хороший певец?
– Да. Он очень популярен в Советском Союзе.
Салим наморщил лоб и задумался. Я понял, что он хочет что-то попросить, но не осмеливается.
– Говори, Салимджон, что хочешь?
– Хочу посмотреть на концерт. Ты сможешь достать для меня коляску и букет цветов?
– Смогу, Салимджон, но твои раны… Разрешит ли врач? К тому же букет цветов…?
– Не беспокойся. Спроси разрешения у врача. Прошу.
– Хорошо.
День, когда приехал Иосиф Кобзон со своей группой, ничем не отличался от праздника. Десятки разноцветных знамен Советского Союза и трехцветные флажки Афганистана – красные, белые и зеленые украшали столбы и ветви садовых деревьев. Каждый солдат, умеющий ходить, приносил с собой стул и усаживался на площадке. Сотни других больных косолапо лежали на траве. Я привёз безрукого и безногого Салимджона (хотел написать получеловека, но не осмелился), как куклу, на коляске и уместил впереди толпы. На его коленях лежал красивый букет распустившихся красных роз, которые я усердно выбирал в цветочном магазине. После приветствия и поздравлений артистов, слова которых переводил переводчик посольства, начался концерт. Я много раз смотрел концерт Иосифа Кобзона по телевизору. Там он был вынужден петь под фонограмму, его лицо никак не передавало смысл слов и красоту музыки, но здесь, перед 18-19 летними солдатами-инвалидами, молодыми ребятами с наполовину забинтованными телами, он не пел, а словно плакал, молился за них. Чтобы обрадовать афганских раненых, этот выдающийся певец даже выучил песню Ахмада Зохира «Лайличон» и спел ее с русским акцентом:
«Лайли, Лайли, Лайличон, чон, чон,
Мара кушти ба арамон»…
Затем на сцену поднялась высокая стройная женщина, с золотистой косой. На ней было широкое красное платье. На ее улыбающемся лице была запечатлена такая искренняя радость, обаяние и любовь, что, только взглянув на нее, в сердцах, как весенние цветы, распускалось веселье. Она, приплясывая, пела народные песни. Салимджону так понравилась эта певица, что подняв голову, он обратился ко мне:
– Переводчик себ, не понимаю, о чем она поет, но очень талантливо. И лицо у нее солнечное. Видно, что она очень приветливая. Хочу преподнести ей букет. Ты мне не поможешь?
– Почему бы и нет, Салимджон? Конечно.
– Когда песня закончится, дай букет мне в зубы и выведи к ней.
Певица изящно спела пять-шесть песен, и со всех сторон послышались шумные аплодисменты с криками «браво». Она снова и снова благодарно кланялась, получая из рук зрителей дюжину цветов. В этот миг Салимджон подал мне знак. Я преподнес букет к его рту, и тот прикусил букет за узел. Толкая коляску, мы поднялись на сцену. Вдруг взгляд певицы упал на Салимджона, эту куклу без рук и ног. На минуту она оцепенела, словно не верила своим глазам, и быстро закрыв лицо ладонями, заплакала. Через миг женщина как пуля подбежала в Салимджону, упала на колени и в слезах обняла его. Раненые, молча срывая лепестки цветов, бросали на них. Со всех сторон послышались плач, аплодисменты и возгласы «Будь здоров!», «Молодец». Певица вдруг начала целовать Салимджона в лицо и шею, и возможно, сама не ведая, беспрерывно повторяла слова: «Милый, миленький мой, родной. Что с тобой сделали… » и, наконец,удерживая его голову руками, долго глядела в его измученные глаза, а затем осторожно взяла букет изо рта Салимджона… ртом. Эффектные трагичные сцены индийских фильмов были ничто перед этим зрелищем.
В этот миг я заметил Георгия Савича, который неподвижно сидел на пластиковом стульчике в углу сцены, не отрывая печальных глаз от происходящего. Меня поразил этот взгляд: он будто смотрел и в тоже время ничего не видел. В этих глазах было столько горя и боли.
После концерта более двух часов продлилась церемония распределения протезов. В очереди также стоял одноногий Хуршеджон, спустя два часа я увидел его на площадке больницы вместе с братом, сидящими на траве. Крепко держа за пазухой протез, он громко восклицал:
– Всевышний, спасибо за твое милосердие. Я вновь приобрел ногу, которую теперь не повредит ни марми,[8] ни взрывы бомб и мин…
Да, это был удивительный день, плакали все: кто от радости, а кто от горя…
***
– Послушай, брат, с какими намерениями наши руководители ввели в эту страну свои вооруженные силы? А? С какой целью?
– Георгий Савич, я знаю то же, что знают все – тут же ответил я, так как был не готов к такому неожиданному вопросу. – Даже если в данной инициативе есть низкие цели, то я о них не в курсе. Конечно же, наша страна со своим величием ничего не делает просто так. Мы, якобы, опередили американцев…
– Я не это имел в виду. Какая цель может быть важнее человеческой жизни? Если цель — американцы, тогда в чем смысл убивать и ранить мирный народ: женщин, детей, стариков и невоенных? Не одних-двух, а тысяч…
– Война, Георгий Савич, война. На войне все – женщины, мужчины, стар и млад, становятся мишенью.
– Ты сейчас перефразировал Сталина. Когда рубят лес, во все стороны летят щепки, но цель лесорубов сам лес.
– К сожалению, отец всех наций был прав.
– Достоевский в одном из романов от имени своего героя с горестью говорит, что весь мир со своим величием не стоит одной капли детских слез. А здесь текут реки этих слез, реки… На самом деле, неважно, разумно мы боремся или нет, убиваем друг друга или нет, пусть это будет на нашей совести. Как говорил Достоевский: у людей временная совесть, взятая на прокат. По словам писателя, от прискорбных слез униженных, заблудших и нуждающихся земля промокла до ниточек, однако, какое отношение к этой глупой борьбе имеют дети? А? Почему и зачем они должны страдать? Кто дал на это право? Господь?! Нет, брат, не верю… Я вспомнил притчу одного русского писателя. Смысл притчи в следующем: вина бедного барашка перед волком лишь в том, что волк проголодался…. Волк силен и могуч, а барашек перед ним ничто? Поэтому, брат, хочешь, не хочешь, у могучего и зло поощряется, и грех считают благодеянием. Убийство, казнь, кровопролитие есть, а виновных нет. Ну, нравится тебе такая философия? А? Кстати, ты читал Достоевского?
– Читал, Георгий Савич, снова и снова…
– Тогда ты счастливчик и в то же время несчастный.
– Да ну, вы разделили мою жизнь на два противоположных полюса. Почему?
– Человек, снова и снова перечитывающий Достоевского, ищет в его произведениях счастье и несчастье, и хочет сравнить их со своей жизнью, своими неудачами и страданиями, поскольку несчастий и трагедий, непохожих друг на друга, в произведениях так много, что они соответствуют судьбе каждого обитателя земли. Удивительно, несчастье будто измерено для каждого по росту, статусу и возрасту. Одним словом, брат, здоровый человек никогда не перечитывает Достоевского.
– Георгий Савич, сегодня был трудный день, – я не хотел вникать глубже в его философию.
– Не знаю как ты, но я очень устал. Может по сто грамм? Доставай графин. И впрямь много слов сегодня было сказано, но, зато, помянули покойную душу Достоевского. Правильно?
Наполовину наполнив стаканы, мы оба одним махом, молча, хлебнули.
– Вот меня удивляет – с кислым лицом начал Георгий Савич, – такая могущественная страна, как Советский Союз, захватившая полмира, своими новейшими ракетами, танками, вертолётами и самолётами, не может встать против этой босоногой, бездомной, полуголодной и бедной нации. В безвыходном положении… Хотя какой тут выход? Разве они имеют право на «выход» из положения?
– Да, Георгий Савич, у большинства из них сухо в горле, то есть, как вы сказали, они нищие, босоногие и полуголодные, однако родная земля для них священна. Кроме того, они храбрые и бесстрашные, то есть бойцы поджигатели. Короче говоря, «это Хорасан», Георгий Савич, Хорасан, — гордо заявил я словами иранского поэта Эраджа Мирзо и увидел, что он изумленно смотрит мне в лицо.
– Вы в порядке, Георгий Савич?
– Да, – задумался он. – И ты один из них. Хорасанский. Наливай, брат, я хочу напиться до потери чувств.
– Вы, Георгий Савич, и вправду устали. Ваше сердце, как магнит, притягивает все бедствия с мельчайшими деталями. Может, отпуск возьмете?
– Да что это такое? Ты поэтом стал? Говоришь, прям, как истинный поэт… Магнит … притягивает… Удивительные фразы болтаешь…На самом деле ты прав. На Родине, в воинской части, где я работал, раз в несколько лет случались несчастные случаи, а тут каждый день смерть, смерть, смерть… молодых ребят, у которых еще усы не пробились. Не могу больше видеть смерть, брат.
– Мне их тоже жаль, Георгий Савич, мы ведь одной национальности. Если мы тут, в больнице, становимся свидетелями стольких смертей, то что там, в самом очаге? Как только из одной деревни слышатся звуки стрельбы, через полчаса прилетает вертолет и разносит эту местность к чертям… Взамен одного убитого солдата Шурави погибают сто и даже двести невинных жителей…
– Хватит, брат, хватит, – мучительно сказал Георгий Савич. – Лучше налей, до краёв…– и, когда я наполнил стакан, он взял его в руки, уставился, затем непривычно выпил глотками, будто пробуя каждый глоток по отдельности.
– Черт возьми, все напрасно, – сказал он, словно в трезвом состоянии. – Все напрасно, – и я впервые не понял, что он имел в виду под словом «напрасно», поэтому подумал, что Георгий Савич бредит после стакана алкула, но немного помолчав, он добавил: — Да брат, все напрасно… Ты словно кладешь свою душу в кандалы, чтобы эти юноши выжили, ставишь их на ноги, вытаскиваешь их с того света, но, черт возьми, их снова отправляют на фронт, в окопы, чтобы там поубивали друг друга или ранив, опять положили на операционный стол, под нож. Не знаю, где источник этой несправедливости или чьих рук это дело: политиков или судьбы…? К тому же то, что ты сказал, уже давно вертится у меня в голове. Сколько еще невинных жителей погибнут от бомбардировки наших? Сколько еще бедняков ранят? Где и кто будет их лечить? Страшно. У меня, как у хирурга, сердце сжимается от этих предположений… Да, кстати, — он поднял голову и с улыбкой сменил тему разговора: — Сегодня перед группой Кобзона вы с безруким и безногим солдатом сыграли поразительную сцену. Еще чуть-чуть и я бы расплакался как ребенок.
– Георгий Савич, по-моему, спирт не пошел вам на пользу, – обиделся я его иронии. – Стакан спирта затемняет разум, даже у врачей…
Георгий Савич вдруг громко рассмеялся.
– Извини, брат, не обижайся, – и с трудом поднявшись, протянул мне руку. – Прошу прощения, я правда очень устал, очень… Может послушаться тебя и уйти в отпуск? А? В длительный отпуск. Эх, эх, — он еле вышел из-за стола. – Лучше, брат, давай по домам. На сегодня этого достаточно… Да, достаточно…
На следующий день мы с Георгием Савичем пришли проведать Хуршеджона. Врач осматривал раны на его ноге, как вдруг в палату ворвалась женщина лет сорока, среднего роста, в широком черном платье. Она вошла бледная, с испуганным лицом, посмотрела на каждого раненого и, когда, наконец, ее взгляд упал на Салимджона, резко вздрогнула, в ней будто что-то разорвалось.
Салимджон спал под воздействием лекарств. Его спокойное лицо было настолько бледным, что казалось, словно на крахмальную подушку положили голову, сделанную из алебастра.
– Ох, – застонала женщина, и измученно прислонившись к двери, соскользнула на пол. Я почувствовал, как вздох женщины, будто эхо, снова и снова звучал в этой зловонной от лекарств палате.
Быстро подойдя, я взял ее за руку.
– Хонум,[9] вы в порядке?
Она дрожащими пальцами указала на Салимджона:
– Это Салимджон?
Я задумался: это его мать или сестра?
– Да, Салимджон. Вы его сестра, хонум?
Она, подняв голову, посмотрела на меня, и от этого взгляда во мне что-то лопнуло.
В ее глазах виднелась лишь боль.
– Нет, – прошептала она, – я его мать.
В этот миг Салимджон закашлял и открыл глаза. Взяв себя в руки («браво» ее воле), она поднялась и подошла к сыну.
– Привет, мой милый.
– Мама!? – зарыдал Салимджон и, подняв голову с подушки, задрожал. Словно хотел обнять мать.
– Всё хорошо, мой дорогой…
Салимджон положил голову обратно на подушку. Со слезами на глазах, он долго глядел в мамино лицо, затем сказал:
– Смотри, какой я стал. Извини, даже обнять тебя не могу.
– Не беспокойся, ты снова стал маленьким, мой милый… Господь захотел, чтоб для меня ты всегда оставался ребенком.
– Прости, мама, что не смог сберечь себя ради тебя.
– Дорогой мой, слава Богу, ты ко мне вернулся…
В этот миг кто-то положил мне руку на плечо и, обернувшись, я увидел Георгия Савича.
– Кто это? Мать?
– Да, Георгий Савич, мать.
– Боже…. О чем они говорят?
Я перевел.
– Да здравствует афганская мать… — воскликнул Георгий Савич. – Их любовь и воля сильнее войн и смерти, да, брат, сильнее… Мы сеем семена смерти, а они всем сердцем вырывают их с корнями… – и вдруг сильно сжал мое предплечье. – Послушай, брат, я не прошу, а умоляю, нет, приказываю. Не говори, что я его прооперировал. Понял. Не говори.
Когда я посмотрел на лицо Георгий Савича, передо мной будто стоял живой труп.
– Коко![10]– обратилась ко мне женщина.
– Да, хонум?
– Помоги мне, хочу подышать свежим воздухом.
– Что она хочет? – обеспокоенно спросил Георгий Савич.
– Хочет выйти на улицу.
– Да, да, иди с ней, вдруг ей станет плохо, – взволнованно сказал Георгий Савич.
Я взял женщину под руку. Наклонившись, она поцеловала Салимджона в лоб и прошептала:
– Сейчас вернусь, милый.
Когда мы вышли из палаты в коридор, женщина остановилась на секунду, затем упала в обморок. Она потеряла сознание.
Сзади послышался крик Георгий Савича:
– Черт возьми. Нашатырный спирт…Быстро…
***
На следующий день Георгий Савич не пришел. Я подумал, что ему нездоровится, ведь последние месяцы он часто выпивал, поэтому решил во время обеденного перерыва сходить к нему домой, проведать, но примерно к одиннадцати часам главный советник управляющего больницы вызвал меня к себе в кабинет. Я пришел. В кабинете рядом с ним сидел работник службы госбезопасности. Я хорошо его знал, так как он был ответственным за безопасность советских специалистов в больнице. Извещал нас о ситуации в Кабуле и предупреждал, чтоб были осторожны.
– Присаживайтесь, – сказал он, указывая на стул. – Когда вы в последний раз видели главного хирурга больницы Георгия Савича Чепчерука? – официально, как робот спросил он.
– Вчера вечером, – усаживаясь, ответил я. – Вообще-то я каждый день с ним. И вчера тоже был. А вечером мы разошлись по домам. Что-то случилось?
– В каком он был духе? – вопросом ответил он на мой вопрос.
– Что значит, в каком он был духе? Был уставший. Ведь он каждый день оперирует по два-три, иногда по пять раненых солдат. Главный советник об этом знает. Случилось что? – сердце почуяло что-то неладное.
– Да, нет. О чем вы говорили?
– Не помню… По-моему, о концерте Иосифа Кобзона. Да, да, вспомнил, точно о концерте … Да что случилось? Где Георгий Савич?
– Георгия Савича больше нет, – сказал работник госбезопасности и, достав из кожаного чемодана лист, протянул его мне.
Я сразу узнал почерк Георгия Савича. Он писал:
«Я очень устал. Никто не виноват в моей смерти. Ухожу по своей воле и думаю, имею на это право. Только жаль, что побеспокою нескольких своих друзей. Прошу у них прощения. Повторяю: никто не виноват в моей смерти. Чепчерук Георгий Савич».
Работник госбезопасности что-то говорил, но я словно оглох. Я перечитывал предсмертное письмо, но каждый раз написанное казалось мне бессмысленным и напрасным бредом, злой и безжалостной шуткой, далекой от правды. Подумал, что Георгий Савич нуждается в помощи, и я должен непременно быть рядом. Да, я должен пойти к нему домой. Не помню, как встал с места. Когда очнулся, увидел, что работник госбезопасности держит меня за руку, а советник наливает в стакан воды.
– Друг, возьмите себя в руки, – сказал работник госбезопасности.
– Я… – я освободил его руку. – Я в порядке. Не волнуйтесь.
– Прошло?
– Прошло, – я снова уселся, но в голове бренчали звуки беспрерывных выстрелов. – Не понимаю, верить этому или нет? Георгия Савича больше нет?
– К сожалению, нет. Он выстрелил себе в голову. Не знаете почему?
– Последние два-три месяца он выглядел очень уставшим и грустным.
– Почему?
– Говорил, что тридцать-сорок из ста афганских юношей стали инвалидами. Это его терзало. Говорил, что не хочет больше так жить.
– Да, – подтвердил советник, который до этого молчал, уставившись куда-то. – Георгий Савич был прирожденным врачом и умелым хирургом. Жаль.
– Я больше вам не нужен? – спросил я, хотелось скорей убежать от печали, не в силах больше слышать обкатанных пустых слов «выдающийся хирург, душа человека, прирожденный врач, болезнь» и тому подобное. Эта «искренность» казалась мне бумажным букетом на могиле, что не имело никакого отношения к жизни, деятельности и самопожертвованию Георгия Савича. Он был подобен светильнику, который дымился, когда смерть побеждала раненого солдата, а когда ему удавалось осилить смерть, от радости так светился, что затмевал все вокруг ярким светом и теплом.
– Нет, нет, – сказал советник. – Вы сегодня отдыхайте. Возможно, до прихода нового врача поработаете в другом отделении.
– Кстати, – сказал работник госбезопасности, – пару дней ваш кабинет будет в нашем распоряжении. Наши работники должны обыскать там все. Главное, чтобы последний шаг Георгия Савича не был политическим шагом…
– Будьте уверены, не был, – сказал я и посмотрел на советника, – если что, я буду дома…
– Минуту, друг, – работник госбезопасности остановил меня. – Чуть не забыл, вы с Георгием Савичем награждены орденом “Красная звезда” и медаль “В знак благодарности от афганского народа”. Должен был вручить обоим на всеобщем заседании работников больницы. А вот оно как сложилось, – и он достал награды из чемодана. – Это ваш, – протянул мне свёрток. – А награды Георгия Савича отправим его родным.
Я хотел что-то сказать, но работник госбезопасности сразу перебил меня.
– Знаю, что хотите сказать. Не беспокойтесь, я не напишу его близким ни слова о самоубийстве. В Афганистане каждый день происшествия. Взрывы, шальные пули…
Сердце сжалось. Попрощавшись, я вышел на улицу.
Жизнь в Кабуле текла в своем привычном русле… Радовала и огорчала, но больше огорчала, топила сердца в крови…
Не помню, как дошел до берега большой реки. Эту реку, что летом маловодна и безжизненна, а зимой и весной полноводна и бурлива, русские называют Кабулка. Теперь завядшие, жаждущие воды травы двух берегов печально смотрели на тусклую воду. Они разделяли мою боль.
Я осторожно открыл свёрток. Внутри две чудные красивые коробочки. В одной орден «Красная звезда», а в другой серебряная медаль “В знак благодарности от афганского народа”. Оба лежа на моей ладони, будто победоносно смеялись. Орден «Красная звезда», которую вручают за героизм на войне, заблистал, а медаль “В знак благодарности от афганского народа” скромно заулыбался, будто был рад и доволен убийствами. Я долго глядел на них и вдруг… не заметил, как они легко соскользнули с моих рук и упали в грязную воду…. Я ждал, что сейчас во мне проснется печаль, сожаление и раскаяние, однако наоборот, мне стало легче.
«Вы нашли свое место» – наконец подумал я и зашагал вдоль берега, как эта тусклая, безжизненная вода …
Мой новый друг поставил на этом месте своих воспоминаний точку, и я почувствовал, что он поставил ее принужденно, неуместно. Мне история показалась незаконченной, поэтому, когда я возвращал рукопись, сказал ему об этом.
– Верно, – согласился со мной друг. – История не завершена, так как в то время у меня не было больше смелости, сил и возможности ее продолжить. В начале 1989 года я вернулся на Родину и два года спустя Советский Союз – эта могущественная страна, прославленная своей армией, первое повреждение которой нанесли «босоноги» Афганистана, развалилась на части. Это было ее наказанием. Затем к власти пришли толстяки «олигархи», которые сломав серпы дехканам, стали владеть всеми землями, расплавив молоты рабочих, завладели заводами и фабриками. Миллионы людей разных национальностей остались бездомными, без корней, без Родины. Вспыхнули региональные войны, в огне и дыме которых трагедия Афганистана испарилась как обыденное неясное явление. Мы, таджики, тоже не остались в стороне и в войне под названием «гражданская» показали миру, на какие «подвиги» мы способны. Итак, друг, сейчас полмира в огне войны, и Афганистан лишь мгновение всего этого. Больше нет нужды в словах. Благодарю, что дочитали до конца и разделили мою боль…
[1] Хамал — название месяца года по солнечному календарю, соответствует марту – апрелю.
[2] Алкул – по афгански алкоголь — спирт
[3] Шурави – так афганцы называют Советский Союз.
[4] Анориёсин — граната Ёсина; Ёсин — тридцать шестая сура Корана, читаемая при тяжёлом или предсмертном состоянии больного.
[5] Себ (сохиб) – хозяин, друг, приятель.
[6] Нарс – медсестра.
[7] Морфий – опиум.
[8] Марми – пуля.
[9] Хонум — вежливое обращение к женщине.
[10] Коко – дядя.